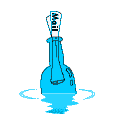Галина Георгиевна Кошелева
Из воспоминаний о Николае Васильевиче
Голикове
* * *
Впервые я увидела Николая Васильевича
Голикова осенью 1939 г. на лекциях акад. Алексея Алексеевича Ухтомского для
студентов биофака. Эти лекции были очень популярны: их посещали не только
студенты ЛГУ, но и физиологи и врачи разных НИИ и ВУЗ’ов. 90-ая аудитория
всегда была переполнена.
В последние минуты, когда все уже
ждали появления А.А., сбоку от кафедры поспешно размещались его сотрудники. Но
один из них — невысокий полный черноволосый с усиками, в белом халате, плотно
его обтягивавшем и иногда застёгнутом наискосок, направлялся прямо к кафедре и
тем привлекал к себе внимание. Он шёл, неся перед собой стул, медленной, слегка
раскачивающейся походкой, ставил стул и неторопливо усаживался.
Звенел звонок, входил А.А., и
начиналась лекция. При первых же словах лектора сидевший за кафедрой человек
удовлетворённо закрывал глаза и спокойно, благодушно погружался в сон. Это
поражало и вызывало интерес. Мне прошептали, что это — доцент кафедры
Физиологии Николай Васильевич, что студенты прозвали его “спящей красавицей”, и
что он проводит демонстрации опытов на лекциях А.А.
Во время лекции было очень интересно
наблюдать, как Н.В. внезапно (и своевременно) просыпался, вставал, в руках его
появлялось животное, поблизости оказывалась аппаратура, и он уверенно и быстро
показывал всё, что требовалось. Случалось, он слишком увлекался пояснениями к
очередному опыту, и только почувствовав едва заметное раздражение А.А., который
не любил, чтобы демонстрации затягивались, со вздохом садился и погружался в
прежнее сонное состояние. Если демонстраций на лекции не было, то Н.В. вроде бы
и не просыпался вовсе.
Но надо сказать, что на протяжении
долгих лет многие, как и я, имели возможность убедиться, что “сон” Н.В.,
изредка даже сопровождавшийся лёгкими всхрапываниями и настигавший его на всех
заседаниях, конференциях, симпозиумах, съездах и собраниях, непостижимым
образом способствовал тому, чтобы всё, сколько-нибудь достойное внимания,
никогда не ускользало от него и надолго оставалось в памяти. Его выступления с
тонким анализом заслушанного (а выступал он почти всегда) обнаруживали присущий
ему дар сразу схватывать основное и видеть перспективы дальнейших исследований.
А в архиве Н.В. до сих пор хранятся
тетради с надписями: “Из лекций Алексея Алексеевича Ухтомского”.



* * *
В следующем, 1940/1941 учебном году
мы, будущие физиологи и биохимики, слушали и лекции самого Н.В. Эти лекции
всегда имели оттенок некоторой торжественности. 90-ая аудитория наполнялась
народом; звенел звонок. И тут откуда-то из глубин кафедры, опережая появление
самого лектора, раздавался звучный голос, с прекрасной дикцией провозглашавший:
“Сегодня мы с вами ознакомимся с основами...”,— и тут появлялся Н.В. Неизменно
в белом халате, с гордо поднятой головой, полный энергии, строгий,
сосредоточенный, он производил суровое впечатление. Не прерываясь ни на
секунду, он начинал размеренно шагать вдоль доски, и его походка становилась
всё ритмичнее по мере приближения к обобщениям и выводам, всегда предельно
кратко и подчёркнуто точно сформулированным. Затем Н.В. поворачивался к нам
лицом и громко, настойчиво повторял выводы, выразительно, как стихи. Теперь он
не сводил с нас глаз: успели ли всё записать? Всё ли понятно? И сразу
становилось ясно, что перед нами — приветливый, открытый к общению человек,
гордый своей принадлежностью к университетской физиологической школе. Все
лекции Н.В. были пронизаны чувством глубокого уважения к своим учителям. И.М. Сеченов,
Н.Е. Введенский и А.А. Ухтомский всё время были в центре его внимания: он
восхищался их даром проникновения в тайны природы, настойчивостью и
тщательностью в исследованиях, их преданностью науке. Он обращал наше внимание
также на их бескорыстность, неприхотливость в повседневной жизни, на их
стремление помогать другим — всё это было для них “наш долг”. Они были
труженики — созидатели, и он всей душой был с ними. Это было во всех лекциях
Н.В., как бы они не были своеобразны.
Лекции по курсу нервно-мышечной
физиологии Н.В. читал под девизом: “Рабочие понятия науки должны быть понятиями
измерения”. В этом отражалось его пристрастие к точным наукам и к технике:
увлечённо демонстрируя нам многочисленные схемы и модели, способные
воспроизвести нечто сходное с физиологическими процессами в нервах, скелетных и
сердечных мышцах, Н.В. тут же отмечал их ограниченность. Сами же
физиологические процессы были для него предметом глубокого, тщательного и
всестороннего анализа, опиравшегося на бесчисленные миографические,
эксцитометрические, электрофизиологические и физико-химические показатели и на
их сопоставление при сравнении различных фаз этих процессов. Эрудиция Н.В. и
его память не знали границ.
С этих позиций он представил нам и
теорию парабиоза Н.Е. Введенского в её последующем развитии в учение об общих
закономерностях реакций живого субстрата на раздражающее воздействие среды.
В этом курсе Н.В. уделил много
внимания физиологической терминологии, предупреждая нас, что небрежное
отношение к ней ведёт к заблуждениям, к тому, что учёные перестают понимать
друг друга (как это и было в те годы с терминами “реактивность”,
“раздражимость”, “чувствительность”, “возбудимость” и “возбуждение”). Уточнения
этих понятий он буквально вдалбливал в нас, требовательно и настойчиво
направляя на путь исследователей-экспериментаторов, способных решать и
теоретические вопросы.
Лекции Н.В. по курсу физиологии
центральной нервной системы (ц.н.с.) звучали значительно мягче. Они были
обогащены глубокими знаниями Н.В. в области медицины. Н.В. подчёркивал единство
этих наук и, переходя к закономерностям функционирования организма как целого,
любил отмечать родство принятых в лечебной практике правил с физиологическими
законами, установленными в экспериментах. Так, знакомя нас с эмпирическим
правилом Арндт-Шульца (большие дозы лекарственных веществ оказывают тормозящее,
угнетающее действие, а малые — успокаивают или возбуждают), Н.В. останавливался
на вопросе о единстве процессов возбуждения и торможения, на том, что яды и
наркотики — это тоже возбудители, только слишком сильного действия, и
специально отмечал большое значение трофического действия слабых асинхронных
раздражителей, в частности — в поддержании субординационных влияний.
Подробно характеризуя функции тех или
иных нервных центров, Н.В. попутно приводил примеры заболеваний, наступающих
при нарушениях их деятельности, поднимаясь от спинальных к кортикальным
центрам; при этом он уделял много внимания приспособительным возможностям
организма как единого целого.
Сопоставление нормальной физиологии с
патофизиологией и с заболеваниями ц.н.с. вносило много нового, интересного,
позволяющего глубже понять организацию ц.н.с. и делало лекции очень
увлекательными.
Как-то особенно, празднично, говорил
Н.В. о закономерностях межцентральных взаимодействий. Он увлечённо и подробно
рассказывал историю создания А.А. учения о доминанте, анализировал механизмы её
формирования и её исходы, рассматривал принцип доминанты как общий и основной
принцип в работе нервных центров во всех возможных аспектах. И с особой
торжественностью говорил Н.В. о новых, развиваемых с 1936 г. представлениях
А.А. о физиологическом покое, как о торможении “иной”, ещё мало изученной
природы.
Слушая лекции Н.В., мы воспринимали
его как блестящего лектора, но не в состоянии были в должной степени оценить
его педагогический талант; также мы и не подозревали тогда, что Н.В. внёс уже
значительный вклад в развитии физиологической школы ЛГУ: позиция “Я” в лекциях
Н.В. не существовала.
* * *
Конец 1940/1941 учебного года скомкала
и завершила война. Нам было предложено досрочно сдать госэкзамены.
С первых же дней войны акад. А.А.
Ухтомским были созданы две группы, работавшие по оборонной тематике: одна при
Электрофизиологической лаборатории (ЭЛАБ) АН СССР, другая — при кафедре
Физиологии человека и животных ЛГУ. Обе группы занимались изучением шоковых
состояний в целях борьбы с ними.
Работа уже активно велась, когда Н.В.
предложил мне присоединиться к университетской группе, заметив, что А.А.
считает необходимым привлечь к работе биохимика. Я была очень обрадована и
начала участвовать в опытах с первых дней августа. У меня сохранились протоколы
тех опытов; 21 опыт университетской группы был для меня первым.
Работа была задумана очень широко: в
опытах у кошек и кроликов, подготовленных разной диетой, вызывали шоковые
состояния. В каждом опыте нашей группы регистрировали дыхание и артериальное
давление (П.Н. Березинова), измеряли
рефрактерную фазу мотонейронов (С.Е. Рудашевский), моторную
субординационную хронаксию (Н.Е. Гопник-Василевская), концентрацию водородных
ионов (Г.И. Романова) и щелочной резерв крови (его измеряла я). Опыты
проводились не только на интактных животных, но и на спинальных,
бульбоспинальных и таламических препаратах. Основную часть экспериментальной
работы всегда брал на себя Н.В.: он проводил всю нейрохирургическую подготовку,
и надо было видеть, как своими толстыми, казалось бы, неуклюжими пальцами он
производил операцию и далее вёл с секундомером в руке весь опыт. Сам Н.В.
наносил и шокогенные раздражения.
Наша группа работала очень слажено, не
смотря на то, что жить и работать становилось всё труднее. Сказывались голод и
холод. Для опытов была выбрана самая тёплая комната кафедры, но уже в октябре в
ней было около 7° (осень была холодная); когда появилась возможность
подтапливать печку, начались перебои в поставке подопытных животных. Сперва
исчезли кролики, затем — корма для животных, позже в городе вообще не стало
кошек. Последний, 65-ый опыт был поставлен в декабре. К тому времени все мы уже
имели скорбный вид.
Н.В., руководя группой, всегда был
приветлив и доброжелателен; в те тяжёлые времена я ни разу не видела его
раздражённым. Он изобретательно преодолевал всё, что мешало работе, умел
обращать в шутку мелкие неудачи, посмеиваясь над самим собой или над кем-нибудь
из нас, иногда — с некоторой дозой яда, что нравилось далеко не всем. Мне же
этот стиль был очень мил: он был принят и у нас дома. С Н.В. было интересно
обмениваться некоторыми удивительными, подчас забавными впечатлениями, которых
во время блокады было предостаточно. Позже мы начали делиться и нашими бедами,
а их со временем становилось всё больше: жена Н.В. — Елена Александровна —
умирала в больнице, на его руках оставались двое маленьких детей. У меня в
семье были больны отец и брат (брат вскоре окажется в той же больнице, что и
Е.А., там он и скончается в феврале). Всё это было очень горько, но горевать
было нельзя.
Как-то раз в университете опыт
окончился раньше обычного. До комендантского часа ещё было время, и я попросила
Н.В. показать мне собранную им электрофизиологическую установку, на которой он
работал в ЭЛАБ АН СССР. Н.В. любезно согласился, и мы отправились в ЭЛАБ,
располагавшуюся совсем рядом — на другой стороне Менделеевской линии, в боковом
флигеле здания Академии Наук. По дороге Н.В. успел рассказать, что он на время
поселился вместе с детьми прямо в лаборатории. Так проще выжить: и ходить
недалеко, и ребята рядом; к тому же лаборатории Академии Наук ещё как-то
отапливаются, временами бывает электричество, а за стеной живут хорошо знакомые
люди (в соседней лаборатории приютился со своей семьёй Л.А. Орбели). Словом,
это был оазис, где ещё теплилась жизнь.
Когда мы пришли, света в лаборатории
не было, и установку Н.В. мне показывал, не включая её. В соседней комнате
находились дети. Тут тоже было темно, с улицы окна были забиты досками, между
ними и стёклами помещался толстый слой опилок (так в блокаду защищали витрины
магазинов и памятники), а внутри для утепления ещё висели плотные занавески.
Знакомство происходило почти в полной
темноте. Н.В. чинно представил нас друг другу: Галина Георгиевна — это Мура и
Саша. Из темноты показались две детские головки: девочка, лет 11—12, серьёзная,
строгая, выглядела значительно старше брата. Мальчику было на вид лет 8—9; это
был очень красивый ребёнок с нежным, бледным лицом и родинкой на щеке.
Ребята приняли меня приветливо, и, не
раздумывая, я забралась к ним в темноту на какой-то невидимый диван. А Н.В.
вдруг сказал: “Ну, теперь пора рассказывать детям сказку”. Героями этой
нескончаемой сказки оказались знаменитый сыщик Шерлок Холмс и его собака по
имени Шерри-Бренди. Собака эта обладала необыкновенно острым обонянием и
прекрасно дополняла таланты Шерлока Холмса, но при этом всегда умудрялась
безнаказанно стянуть со стола бутерброд с колбасой, ветчину или сосиски, и уж
тут-то даже сам Шерлок Холмс оказывался совершенно бессилен. На какое-то
мгновение все мы погрузились в атмосферу теплоты и доверия и испытали какое-то
ничем не оправданное чувство защищённости от всех грядущих бед и превратностей
судьбы...
Ещё пару раз я забегала в ЭЛАБ —
посидеть с ребятами и послушать новые приключения Шерлока Холмса и его верной
собаки. И каждый раз это было прекрасно и незабываемо. А дети Н.В. навсегда
остались для меня Сашей и Мурлышкой.
Но есть и другое воспоминание —
нестерпимое, как заноза в сердце. Утро нового, 1942 года, началось для меня
мамиными словами: “Папа умирает”. Мгновенно, не заходя к папе, я помчалась за
Н.В., зная, что он — врач. Конечно, Н.В. прекрасно понимал, что помочь уже
ничем нельзя, и всё-таки побежал вместе со мной. Это было, как в нескончаемом
кошмаре, тоже незабываемом. Страшный мороз (больше 30°), Университетская
набережная безлюдна и погружена в глубокий снег. Бежим по сугробам и между
ними. Бежать тяжело — вязнут ноги; безжалостно сияет солнце, всё переливается,
сверкает, слепит глаза. Н.В., истощённый, обессиленный, бежит, задыхаясь, и
падает уже на углу Съездовской линии. Я поднимаю его и тороплю: “Скорее!
Скорее!”. Потом я уже не тороплю, а сама барахтаюсь в снегу где-то около
Академии Художеств. Скользим, падаем и бежим дальше по безлюдным, немым улицам,
как будто всё отдаляющимся от нас.
Наконец, добежали до 11-ой линии, где
жила наша семья. Дверь открыла мама. Строго глядя на меня, сказала: “Всё кончено”.
Н.В. решительным шагом прошёл в комнату, освидетельствовать, что это
действительно так. Пытался выразить соболезнования маме, но та остановила его:
“Ради Бога, простите мою дочь; она испугалась, растерялась, не подумала, что
так поступать нельзя”. Я рыдала, уткнувшись в угол. Н.В. неловко погладил меня
по плечу, прошептал: “Какое несчастье, какое горе”,— потоптался, ссутулился и
поспешил обратно. А мы с мамой ещё долго сидели, затаившись, точно любое наше
движение могло вызвать обстрел или бомбардировку. Слава Богу, всё было тихо.
Немцы оставили нас на время в покое — они праздновали Новый Год.
Всё обошлось: Н.В. благополучно
вернулся в ЭЛАБ. Никогда он не вспоминал об этом. Даже дети ничего не знали о
нашем “кроссе”. Наверно, знал А.А.: тогда я чувствовала, что он, как и Н.В.,
относится ко мне особенно бережно.
Но блокадная жизнь шла своим ходом:
смерти стали обыденным явлением, а университет готовился к эвакуации. Первого
марта я была уволена из университета в связи с отказом эвакуироваться.
Третьего марта 1942 г. Н.В. с детьми
отправился в эвакуацию последним, третьим университетским эшелоном. Заботы об
остававшейся в больнице Елене Александровне взял на себя А.А. Крайне истощённым
детям и ужасающе отёкшему от голоду Н.В. предстоял тяжёлый и опасный путь через
Ладогу.
Н.В. уезжал, отягощённый новыми делами
и заботами: остававшийся в Петербурге А.А. передал ему свою кафедру, и он ехал
в Саратов в качестве и.о. заведующего кафедрой Физиологии человека и животных.
* * *
Саратовский период сыграл в жизни Н.В.
важную роль и должен быть как-то освещён в воспоминаниях. Но у тех, кто пережил
блокаду и всё, связанное с ней, “по полной программе”, воспоминания об этом
периоде жизни долгие годы находились в состоянии глубокого внутреннего запрета:
это была неприкасаемая зона.
Неудивительно, что и Н.В. неохотно
говорил о блокаде и эвакуации. Однажды при мне его спросили: “Как Вы ехали
через Ладогу?” Н.В. сухо ответил: “Волновался за детей — они ехали отдельно”.
Тема была исчерпана, но Н.В., устраняя создавшуюся неловкость, начал говорить о
том, как трудно было восстанавливать физическое и моральное состояние детей
после всего пережитого. Эта манера переводить разговор на другую тему надолго
сохранилась у него и стала характерной.
Воспоминаниями поделилась со мной
Маргарита Николаевна, дочь Н.В., относительно недавно: “Отчётливо помню утро
3-го марта. Все уже садились в автобус на набережной возле входа в университет,
когда я спохватилась, что моя прекрасная, большая кукла Ляля, совершенно
готовая к отъезду, осталась в ЭЛАБ, тут, рядом. Отец, тащивший с собой целую
кучу каких-то железок, запретил мне и заикаться о ней.
Уже смутно, как в тумане, помню, как
мы с Сашей сидели несколько часов на куче вещей в ужасный мороз на перроне Финляндского
вокзала. Папа сказал, что поехал в больницу — за мамой. Когда он вернулся —
один, без мамы — нам было так плохо, что мы уже почти ничего не соображали. В
суматохе кто-то вытащил саночки прямо из-под Саши, который сидел на них, но мы
даже не заметили этого.
Усадив нас в вагон, папа вышел и
вскоре вернулся с тремя буханками хлеба. Такого количества хлеба мы просто не
могли себе представить.
По приезде в Борисову Гриву папа
вместе с другими мужчинами ушёл грузить грузовики. Нас с Сашей посадили в “Скорую
помощь”. Через Ладожское озеро ехали в полной темноте. Саша был в крайне
тяжёлом состоянии: у него начался дистрофический понос. Приходилось открывать
на ходу дверцу машины и выставлять его наружу. В результате все промёрзли до
костей. В Кобоне с трудом выбрались из машины; радоваться, что блокада осталась
позади, не было сил.
Нас повели в тёплый дом и накормили
жирным обедом. Те, кто были поумнее, не ел. А я, маленькая девочка, съела две
порции... Большей глупости, чем сытно кормить оголодавших людей, трудно было
придумать. Организм разучился справляться с пищей, и очень для многих этот обед
оказался последним.
До Саратова эшелон шёл 15 дней. Всё
это время я была в полубессознательном состоянии. К мучениям с животом
добавилась подхваченная на Ладоге простуда. Саша тоже был очень плох. На
станциях папе приходилось выскакивать из вагона в поисках пищи и воды. Это было
трудно и опасно: университетский эшелон всегда ставили на самые дальние пути,
и, чтобы успеть к раздаче, приходилось пробираться под вагонами, которые могли
тронуться в любой момент.
В пути папу очень часто вызывали к
больным, а больными были тогда почти что все... За время дороги папа избавился
от своих голодных отёков и стал выглядеть до неузнаваемости худым, с обильными
складками ставшей избыточной кожи.
В Саратов мы приехали 19 марта. Нас
сразу отправили в санпропускник, затем — в баню и поселили в гостинице
“Россия”, где выделили часть комнаты (отдельную маленькую комнату мы получили
только через несколько месяцев).
Вскоре после нашего приезда пришло
извещение от А.А., что 10 марта мама умерла в больнице от голода.
В Саратове в течение первого месяца
все ленинградцы были на усиленном питании, но закончился этот месяц, и для
эвакуированных вновь наступили тяжёлые времена. По карточкам давали очень мало,
на рынке всё было дорого. Многие профессорские жёны торговали там своим бельём,
а нам продавать было нечего: из Ленинграда взяли только самое необходимое.
Денег почти не было, лишь изредка мы могли побаловать себя знаменитыми саратовскими
булками под названием “кух”, которые пекли приволжские немцы. Иногда папе
удавалось немного подработать: он вылавливал из Волги брёвна и продавал их на
рынке”.
Из воспоминаний Ольги Михайловны
Ивановой-Казас: “К тому времени Н.В. уже потерял жену, и у него на руках
оставались двое детей, все заботы о которых целиком лежали на его плечах. Я
помню, как ему приходилось стирать и даже такие крупные вещи, как простыни, в
практический холодной воде (на керосинке много воды не согреешь) и с очень
ограниченным количеством мыла. Кроме того, чтобы немного подработать, Н.В.
нанимался сбрасывать снег с крыши нашей гостиницы. В то время нам всем нередко
приходилось обращаться к нему и за советами по медицинской части”.
Маргарита Николаевна продолжает: “В
Саратове у папы опять было очень много пациентов. Он лечил всех
университетских, и не только тех, кто жил в гостинице “Россия”, но ходил и в
общежитие на Вольской улице, где также жило очень много наших. Он никому не
отказывал и помогал всем, как мог, разумеется, бесплатно. Конечно, никаких
лекарств не было. К счастью, желудочно-кишечные заболевания дистрофиков хорошо
поддавались лечению соляной кислотой, которую можно было раздобыть в местном
университете.
С наступлением лета жить стало немного
легче. Папа водил нас на Холмы (правый, нагорный берег Волги), там мы ели
черемшу, любовались волжскими просторами и нескончаемыми лугами жёлтых
тюльпанов. На другом берегу реки собирали в протоках моллюсков — беззубок и
перловиц. Университетские зоологи приучили нас использовать их в пищу.
Доставали из раковины моллюска, мололи на мясорубке, обжаривали и ели.
С осени мы с Сашей пошли в школу, где
не было ни учебников, ни тетрадей. Писали на серой обёрточной бумаге.
В университете новый 1942/43 учебный
год начался с 1 октября. С августа по сентябрь все преподаватели и студенты
были заняты на сельхозработах.
Осенью и зимой опять стало хуже с
питанием. Впервые мы стали есть дрожжи; костяную муку приходилось употреблять и
до этого”.
Воспоминания дополняет Елена Томасовна
Гальвас, приехавшая в Саратов к началу учебного года: “Жизнь в Саратове в эти
годы была трудной. Сравнительно недалеко шли бои за Сталинград, и это очень
отражалось на жизни города. Было холодно и голодно, часто отключали
электричество, и тогда приходилось заниматься при свете коптилок. Иногда
приходили баржи с дровами специально для Ленинградского университета. Тогда
весь наличный состав отправлялся на Волгу разгружать баржу. Помню, в читальном
зале тишина, все усердно занимаются. Вдруг — раскрывается дверь, и раздаётся
клич: “Ленинградцы — на дрова!”— и половина зала пустеет. Н.В. тоже ходил на
разгрузку дров. Он появлялся на берегу невозмутимый и важный, как всегда, в
длинном чёрном пальто и чёрной фетровой шляпе. Работал добросовестно, изумляя
всех своей недюжинной силой. Мы, студенты, называли его “американским
безработным”.
Очень трудно было с питанием, и как
Н.В. умудрялся кормить более или менее досыта своих детей, я не знаю. Знаю
только, что он, как и мы, молодёжь, подрабатывал на железной дороге разгрузкой
вагонов с подсолнухом, за что масляный завод расплачивался дурандой.
Но эта многотрудная жизнь никак не
отражалась на лекциях по физиологии ц.н.с., которые читал Н.В. Как и в мирное
время, в Ленинграде, эти лекции отличались широтой охвата материала, глубокой
содержательностью и слушались с захватывающим интересом. К сожалению, этот курс
давался в сильно урезанном виде в отношении лекционных демонстраций и
практических занятий: для опытов на теплокровных для нас, “бедных
родственников”, в Саратовском университете не было никаких условий. Но
кое-какие демонстрации Н.В. всё же умудрялся проводить и для этого шёл на
невероятные ухищрения. Например, он захотел продемонстрировать нам
децеребрационную ригидность. Поскольку здание университета почти не отапливалось,
и нельзя было при такой низкой температуре рассчитывать на успех опыта на
кошке, он решил провести его в своей комнате в гостинице. Из университета была
принесена кошка, станок для её фиксации, эфир для наркоз и хирургические
инструменты. Операция осуществлялась на единственном столе, за которым семья
обедала, и дети готовили уроки. Мы пришли утром, когда Мура с Сашей были в
школе. Как известно, феномен децеребрационной ригидности возникает у
наркотизированной кошки после перерезки мозгового ствола строго на определённо
уровне, естественно, после вскрытия черепной коробки, разрезания мозговых
оболочек и обнажения головного мозга. Перерезку надо производить очень тонко и
осторожно. Опыт может удаться при соблюдении всех этих условий и при минимальной
кровопотере. Поэтому, Н.В. воспользовался для перерезки маленькими маникюрными
ножницами своей дочки и очень просил нас: “Только не говорите Мурлышке, что я
брал её ножницы, и, вообще, что мы здесь резали кошку”.
И в таких трудных условиях, приехав в
Саратов едва живым, в постоянной борьбе с изматывающими бытовыми трудностями,
Н.В. нашёл в себе силы не только руководить кафедрой, читать лекции, проводить
демонстрации и многочисленные консультации, в которых в это время особенно
нуждались студенты, но и работать в госпитале, выступать с докладами на научных
сессиях и конференциях, знакомя оставшихся в городе саратовских учёных с
достижениями физиологической школы Петербургского—Ленинградского университета.
Наряду со всеми занятиями Н.В. (с
трудом — из-за отсутствия бумаги) оформил привезённую с собой из Ленинграда
докторскую диссертацию на тему: “Физиологическая лабильность и её изменения при
основных нервных процессах”. Защита диссертации состоялась 2 марта 1944 г.
Конечно, Н.В. рассчитывал, что ему и
далее предстоит руководить кафедрой, переданной ему как бы “по наследству”
любимым учителем. А потому подал 12 августа 1943 г., когда наступило время
проведения конкурса на замещения должности заведующего кафедрой Физиологии
человека и животных, соответствующее заявление на имя ректора. Однако на
заседании учёного совета факультета избран он не был.
В Саратове вся семья Голиковых очень
тосковала по Ленинграду и ставшему для них родным Петергофу. Маргарита
Николаевна вспоминает, как часто забиралась она на железнодорожный мост и
смотрела на север, на приходящие издалека поезда... В Ленинград они вернулись
при первой возможности — в середине мая 1944 г.
* * *
В мае 1944 г., проезжая мимо
университета, я вдруг увидела Н.В. Он шёл с детьми по набережной в направлении
Академии Наук. Вернулись!!! Я выскочила из трамвая и догнала их. Моё ликование
разделила только Мура, Саша застенчиво улыбался, Н.В. куда-то спешил.
Извинился, но всё же бросил на ходу: “Вам надо поступать в аспирантуру,
готовьтесь к экзаменам. Сходите на кафедру представиться заведующему — проф.
Леониду Леонидовичу Васильеву и поговорите с ним”. И они поспешили дальше.
Я застыла на месте: Н.В. так поразил
меня, что я не сразу поняла, что он сказал. Таким я его никогда не видела.
Бросалась в глаза несвойственная ему замкнутость, какая-то отрешённость. В чём
дело? Да, он сказал — обратиться к зав. кафедрой проф. Васильеву. Почему? Ведь
А.А. передал кафедру ему. Ничего не понимаю! А что я могу понять? Ведь моя
связь с университетом оборвалась со смертью А.А.
Через несколько дней я пошла к проф.
Л.Л. Васильеву. У входа в университет встретилась с Марией Павловной Березиной,
с контрой была едва знакома, но она так неожиданно радостно протянула мне руки и
воскликнула: “Вы живы! Как хорошо! Н.В. очень часто вспоминал Вас, говорил,
что, наверное, Вы остались совсем одна, а одной так трудно было выжить”.
Спасибо ей. Эта встреча показалась мне добрым предзнаменованием. Ободрённая, я
направилась к проф. Л.Л. Васильеву. Он, видимо, был предупреждён Н.В. о моём
визите и принял меня любезно, но счёл нужным предостеречь: “Учтите, что
претендентов в аспирантуру много (11 человек), а мест всего два. Я представляю
в аспирантуру свою ученицу — Гальвас, и возьму её непременно. Вам придётся
конкурировать со всеми остальными”.
Моя эйфория вмиг прошла. В смятении, я
не могла придумать ничего лучше, чем посоветоваться с Н.В. На кафедре его не
было, и я решилась отправиться к нему домой на Красную (Галерную) улицу, что
было дерзостью с моей стороны: до тех пор я никогда там не бывала, и шла без
приглашения, а потому волновалась.
Н.В. к моему появлению отнёсся
спокойно, так, чуть удивился. Но когда я рассказала ему о предупреждении Л.Л.,
стала объяснять, как важно для меня именно теперь поступить в аспирантуру и
спросила, не лучше ли мне поступать по кафедре Биохимии, произошло нечто
неожиданное и даже невообразимое: Н.В. взъерошился, усы и брови встали дыбом,
он вдруг стал выше ростом и, сверля меня глазами, начал кричать в полный голос:
“Вы!!! Вы!! Вы можете так себя вести? Вы знали А.А. и работали у него! Он так к
Вам относился! А Вы? Куда идти? Что это? Вы на это способны? Как можно?!!” Это
был взрыв. Я была совершенно уничтожена. В щёлку двери выглядывали из соседней
комнаты испуганные дети. Не помню, как я выскочила из квартиры. Очнулась на
мосту Лейтенанта Шмидта; сбавив шаг, дошла до дому. Пришла в себя, и тут меня
осенило: вот в чём беда! Алексей Алексеевич! Н.В. чувствует себя виноватым, что
не смог исполнить его волю, удержать в своих руках кафедру...
Позже я поняла, что Н.В. давно уже
принял решение никогда не бросать кафедру. И в самом деле, ни тогда, ни после
он совершенно не проявлял интереса ни к каким самым заманчивым предложениям, а
предложений этих было не мало.
А я тогда даже и не подумала, что ко
всему прочему Н.В. после смерти А.А. лишился и ЭЛАБ со всем оборудованием,
которое он собственными руками создавал в течение многих лет, и что ему надо
начинать всё заново.
Экзамены в аспирантуру мы сдавали в
сентябре; все три экзамена — в один день. Экзамен по специальности (физиологии)
принимал Л.Л. Васильев. В аспирантуру поступили Е.Т. Гальвас и я.
* * *
1 октября 1944 г. я пришла в
лабораторию Физиологии ц.н.с. в качестве аспирантки. Н.В., чрезвычайно энергичный,
был всецело поглощён тем, чтобы превратить выделенную нам комнату в лабораторию
и кабинет. Любезно поприветствовав меня, он несколько иронично добавил: “Мы с
Всеволодом Семёновичем Галкиным (профессор патофизиологии в ВМА) считаем, что с
аспирантами надо обращаться, как со щенками: бросить в воду, и пусть плывёт. Не
выплывет — туда и дорога”. Но в тот же день, когда мы возвращались по домам
(нам было по дороге вплоть до моста Лейтенанта Шмидта), Н.В. сказал, что мне
нужно будет исследовать влияние фенола на нервные центры, в параллель тому, что
было в течение многих лет было проделано им самим в отношении стрихнина. Такое
сопоставление представляет интерес в связи с одной работой Ухтомского и Каплан.
Конечно, нужно поскорее познакомиться с литературными данными по стрихнину и
фенолу, как русских, так и иностранных авторов.
Так и случилось, что небольшой отрезок
пути домой, который мы проходили вместе, стал с этого дня для Н.В. временем для
научных консультаций со мною и временем для отчётов о проделанной работе для
меня. И в самом деле, другого времени для разговоров у него просто не было.
Пустые разговоры не допускались.
Один лишь раз я осмелилась начать
посторонний разговор, и сама тому была не рада, неосторожно спросив: “Скажите,
Н.В., как же случилось, что Вы не прошли по конкурсу?” Н.В. нехотя бросил:
“Сказали, молод ещё. Успеет”. Н.В. замолк, но в моих ушах явственно прозвучал
голос Марии Илларионовны Прохоровой, дамы суровой и многолетнего члена партбюро
ЛГУ. — Дальше шагали молча. Работа, только работа, работа прежде всего.
Но мне не скоро пришлось приступить к
экспериментальной работе.
В октябре 1944 г. всё в университете
нуждалось в восстановлении, и все были вовлечены в хозяйственные хлопоты. Я
тоже оказалась замешана в них и — к большому сожалению моему и Н.В. — вне
лаборатории, “на выезд”: сначала вместе с М.С. Авербахом (человеком тоже не
слишком могучего здоровья, но кротким и прелестным) мы служили грузчиками при
грузовике, затем меня отправили на лесозаготовки, базировавшиеся на останках
концлагеря для военнопленных. Там, в соответствующих условиях, я проработала
два месяца до самого конца декабря, подхватив в дополнение к своим блокадным
недугам ещё и радикулит.
Вернувшись в университет, я с
удивлением обнаружила, что Н.В. уже обжил и частично оборудовал свой маленький
и очень тесный кабинет. В углу появилась
и заняла значительную часть комнаты экранированная камера для
электрофизиологических исследований человека. От камеры вдоль стены к окну шла
вновь создаваемая Н.В. электрофизиологическая установка. Письменный стол Н.В.
торцом примыкал к камере, давая возможность поместить между установкой и столом
лишь маленький стул-вертушку, на котором и приходилось размещаться Н.В. Мой
рабочий стол был вплотную придвинут к столу Н.В., так что все годы моей
аспирантуры мы были с ним постоянно “лицом к лицу”. Сбоку наши столы объединял
стол Семёна Евгеньевича Рудашевского, примыкавший с другой стороны к камере и
затруднявшей вход в неё.
Было настолько тесно, что С.Е.
попытался организовать себе рабочее место на крыше экранированной камеры, но
этим поверг в такой ужас институтскую служительницу Евдокию Ивановну, что
вскоре эту идею оставил, тем более, что наверху оказалось до невозможности
душно.
В кабинете имелась ещё сложенная из
кирпича печка, а между ножками наших столов лежали толстые двухметровые брёвна,
по-хозяйски заготовленные Н.В. и чудесно пахнувшие лесом.
Н.В. приходил на работу очень рано, и
часто наш рабочий день начинался с того, что мы извлекали из-под столов
очередное бревно, водружали его на плечи и спускались с третьего этажа вниз. Во
дворе распиливали бревно на козлах, я колола, а Н.В. собирал поленья в мешок и
относил в кабинет. Помню, как Д.Г. Квасов, проходя мимо, заметил: “Н.В. знал,
кого брать в аспиранты”. Потом я щепила растопку и, как в любой другой день,
начинала топить печку, а затем трясущимися руками препарировала лягушку.
Н.В. очень напряжённо работал,
создавая новую и усовершенствуя старую аппаратуру. Им было заключено несколько
договоров с инженерами и техниками. Часто приходил инженер Дмитрий Дмитриевич
Вольчихин, и они с Н.В. подолгу копались в установке. В те годы изготовление
усилителей слабых токов представляло немалые трудности.
Кроме того, Н.В. работал в
Психо-Неврологическом институте им. Бехтерева, где они, также вдвоём с Дм. Дм.,
уже наладили электроэнцефалографическую установку. Оттуда Н.В. возвращался
довольно поздно и всё-таки заходил ещё и в университет.
Я работала, почти не выходя из
лаборатории, так что меня в институте мало знали. Лишь изредка в кабинет
заглядывала Раиса Семёновна Мнухина и удивлялась, что я всё ещё тут. Случалось,
я заболевала. Но, зная, как пренебрежительно относится Н.В. к собственным
недомоганиям, старалась следовать его примеру. И если всё же пропускала хотя бы
один день, то непременно слышала поговорку: “Помереть не померла — только время
провела”.
Когда опыты с фенолом принесли
достаточные результаты, Н.В. предложил мне исследовать реакции нервных центров
лягушки при воздействии на них гормонов — адреналина и инсулина (в какой-то
степени — антагонистов, так же, как и нервные яды — стрихнин и фенол) и тут же
посоветовал поработать и в Психо-Неврологическом институте, где предполагалось
исследование изменений ЭЭГ больных под влиянием этих гормонов.
Работать в институте им. Бехтерева я
начала, но проработала там всего несколько месяцев, признавшись вскоре Н.В.,
что такой нагрузки мне не выдержать. Он был очень недоволен, но настаивать не
стал. Исследование влияний на нервные центры фенола, инсулина и адреналина я
предпочла дополнить многодневными наблюдениями за поведением и позами
отравленных лягушек. Н.В. с этим согласился.
Вообще же, Н.В. был чрезвычайно
непреклонен в своих решениях. Это коснулось и моей теоретической подготовки:
количество кандидатских экзаменов у меня было доведено до 7: экзамены по
специальности я сдавала отдельно по 4 физиологическим школам плюс добавившийся
экзамен по патофизиологии. Правду сказать, ничего неожиданного или нового в
этом для меня не было. Свою систему воспитания Н.В. продемонстрировал мне, ещё
в самом начале аспирантуры или даже до неё, точно не помню, когда пригласил
меня как-то к себе на дачу — погулять на природе. Эта прогулка запомнилась мне
надолго: Н.В. целый день под палящими лучами солнца водил нас, трёх беззащитных
сирот, по какому-то нескончаемому болоту. Он сурово, решительно шёл впереди,
засучив брюки до колен, в одной майке, вероятно, ощущая себя первооткрывателем
дальних стран, неустанно погоняя нас. Это называлось “воспитанием воли”.
Усталые дети имели обречённый вид и плелись покорно, я же изредка пыталась
роптать, но это, кажется, даже несколько возбуждало Н.В. Всё закончилось, когда
Н.В. на что-то наступил и сильно поранил ногу; сразу рассердившись на всех и на
всё, он решительно направился к дому, дети — за ним, а я — на вокзал.
Зато светлыми и прекрасными
сохранились у меня воспоминания о поездках в Старый Петергоф. Едва шагнув из
вагона электрички, Н.В. вступал в мир, где прошли самые счастливые годы его
жизни, и сразу преображался: становился благодушным, как прежде, и даже
мечтательным. Сюда, в Петергофскую лабораторию Алексея Алексеевича, он пришёл
совсем зелёным юнцом, но так много, так успешно работал, что уже в те давние
времена А.А. поверил в него и навсегда стал относиться к нему по-отечески.
Здесь Н.В. Встретил Елену Александровну, здесь родились их дети. Для них эти
места тоже остались навсегда родными. Для меня всё здесь тоже было знакомо. Я
проходила в Петергофе студенческую практику, но — главное — тут, совсем рядом,
была дорогая мне Мордвиновка, где я проводила каждое лето, и откуда часто
бегала сюда — в Сергиевский парк.
И вот мы бродили по неузнаваемой,
истерзанной земле, с болью в сердце смотрели на развалины Собственной Его
Императорского Величества Дачи, Троицкой церкви и Лейхтенбергского дворца, в
котором располагался Биологический научно-исследовательский институт при
Ленинградском университете. Было грустно, но согревали воспоминания о прежней,
довоенной жизни.
Обошли парк, постояли у пруда, стали
спускаться вниз, к шоссе, и тут замерли, поражённые строем свежих белых
крестов, стоявших, как на параде, по сторонам Ораниенбаумского шоссе и
уходивших вдаль, к заливу. И опять мысли о потерях... свои... наши... ваши, как
много и как безвозвратно.
Но я встрепенулась: “Пожалуйста,
заглянем хоть ненадолго в Мордвиновку”. Ребятам идти не хотелось. В детстве их
пугали тёмным лесом, в котором живут волки, и симпатии он у них не вызывал. Всё
же мы дошли до ведущей к морю аллеи и увидели, как мало осталось от её вековых
деревьев. Поднялись к шишкинским дубам — они были целы.
Когда на следующий год мы пришли сюда
вновь, кресты вдоль шоссе исчезли, а где-то повыше мы нашли братскую могилу. Мы
с Н.В. остановились около неё, дети ушли куда-то вперёд, и я не выдержала — пожаловалась,
что могилу моего отца на Смоленском кладбище тоже сравняли с землёй —
организовали какой-то мемориал. Н.В. вздохнул: “Мы тоже не знаем, где
похоронена Елена Александровна, и не хорошо, что мы с ребятами не можем её
навещать, это смягчало бы их души”. Постояли, помолчали, и Н.В. сделал ещё одну
попытку утешить меня: “Знаете, ещё тяжелее не знать, жив ли родной человек или
нет — я долго не знал, что Серёжа — мой младший брат — был расстрелян в 1937
г.”.
Диссертационную работу на тему: “О
механизме гуморальных влияний на нервные центры” я защитила в срок — в июне
1947 г. — и вскоре устроилась в Институт Физиотерапии и Курортологии, где сходу
занялась вместе с Е.Т. Гальвас оборудованием лаборатории Функциональной
Диагностики. Но связи с университетом не теряла: иногда после работы забегала в
лабораторию к Н.В. Он очень живо интересовался моими занятиями, всегда подробно
расспрашивал обо всём. Затем, как и прежде, мы шагали до моста Лейтенанта
Шмидта, но теперь по дороге Н.В. размышлял вслух, рассказывал о ставших
чересчур частыми выступлениях на Учёных Советах Биофака печально известного
идеологического лидера лысенковщины И.И. Презента: конечно, они не случайны и
ни к чему хорошему привести не могут. Нарастало ощущение, что наука в
опасности. Радовался, что я работала в прикладной физиологии: там трудно было
ожидать каких-либо серьёзных неприятностей. Ворчал, что я не захотела остаться
в Ин-те им. Бехтерева, проявила излишнюю, с его точки зрения,
самостоятельность.
Наверное, за неё я и была вскоре подвергнута
своеобразному и неожиданному “наказанию”. Через несколько дней в лаборатории
Функциональной Диагностики появился весьма солидный мужчина, спросил меня, с
глубоким уважением представился и сказал, что проф. Н.В. Голиков рекомендовал
ему обратится ко мне, как к знатоку вопросов, которые его очень волнуют. Что
его так волновало, навсегда осталось для меня загадкой. А беседовали мы очень
долго и расстались почти друзьями, хотя я и была уже едва жива. Как потом
объяснил мне Н.В., это был больной с навязчивыми состояниями, который утомил
его чрезвычайно...
Предсказания Н.В. о науке вскоре
оправдались: летом 1948 г. разразилась сессия ВАСХНИЛ. Разгром генетики Н.В.
переживал очень тяжело и помогал, как мог, некоторым из пострадавших. В
сложившейся обстановке можно было ожидать, что павловская физиология будет
объявлена единственно истинной. И Н.В. прилагал все возможные усилия для защиты
позиций университетской физиологической школы: уже в начале 1949 г. были
опубликованы его статьи “Развитие концепций Н.Е. Введенского и А.А. Ухтомского
и их перспективы для биологии и медицины”, “Значение концепции Н.Е. Введенского
и А.А. Ухтомского для развития учения И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности”, а в сентябре 1949 г. Н.В. выступил на сессии АН СССР, посвящённой
100-летию со дня рождения И.П. Павлова с докладом “Концепция Н.Е. Введенского и
учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности”, в котором призвал к
содружеству и творческому единению этих двух школ. В это же время Н.В. готовил
к публикации свою монографию, а научные интересы его были сосредоточены на
функциях межуточного мозга и на механизмах субординационных влияний. Но самым
главным, самым важным всегда оставалась для Н.В. проблема сохранения наследия
А.А. и связанная с этим необходимость любой ценой сохранить в условиях
надвигавшейся грозы Физиологический институт им. А.А. Ухтомского. В декабре
1949 Н.В. становится директором этого института и немедленно приступает к его
реорганизации. Немалые силы были потрачены им на расширение сотрудничества с
различными медицинскими, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями,
различными НИИ Москвы, Киева, Тбилиси, Петрозаводска и мн. др. городов
Советского Союза.
А летом 1950 г. состоялась т.н.
“Сессия двух Академий”. Организованная под знаменем развития павловского
направления в физиологии, она тоже оставила после себя невосполнимые для науки
потери. Итоги сессии привели Н.В. в крайне удручённое состояние: он высоко
ценил подвергшегося нападению в первую очередь акад. Л.А. Орбели как крупного
учёного и любил его как прекрасного человека. Вызванная сессией поспешная и
повсеместная перестройка научной работы на рельсы “павловской физиологии” имела
явную политическую окраску и сопровождалась неизбежной при этом великой
примитивизацией. В этой ситуации опасения Н.В. за судьбу Физиологического ин-та
им. А.А. Ухтомского стали особенно серьёзными. На состоявшейся в декабре 1950
г. общеинститутской Конференции Н.В. выступил с докладом: “Современное
состояние и перспективы научно-исследовательской работы Физиологического ин-та
им. А.А. Ухтомского в свете решений павловской сессии АН СССР и АМН СССР”, в
котором сумел зримо доказать значимость проводившихся в институте исследований
и их взаимосвязь с основными направлениями павловской школы. Отпраздновав так свой
первый год директорства, Н.В. по праву мог гордиться тем, что ему удалось
сохранить Институт.
Но на Биофаке остался и ещё один след
от памятной сессии: как бы для развития идей павловской школы были созданы
кафедра Физиологии высшей нервной деятельности (В.Н.Д.) — под руководством
проф. М.И. Виноградова — на факультете и лаборатория Физиологии В.Н.Д. в
Физиологическом НИИ им. А.А. Ухтомского[1];
заново были составлены научно-методические планы, переработаны программы по
физиологии и смежным дисциплинам.
Новая административная работа была
чужда Н.В., но он погрузился в неё целиком: спешил издать собрание сочинений
Н.Е. Введенского в 5 томах, начал подготовительную работу по изданию 8-томника
А.А. Ухтомского. Ликовал, когда удалось приобрести ценную аппаратуру для
экспериментов; на её основе был создан общеинститутский электрофизиологический
кабинет. Наряду с этим занимался переоборудованием вивария, усовершенствованием
производственных мастерских института, ездил в Москву, чтобы выбить для
института дополнительные штатные единицы и при удаче каждый раз воспринимал это
как маленькую, но очень важную победу.
Но, к сожалению, директорство
разнообразные общественные нагрузки и не прерывавшаяся ни на миг педагогическая
деятельность отнимали слишком много времени и сил, отвлекали от творчества и
исследовательской работы.
Отвлекали, требовали дополнительного
внимания и новые домашние заботы: стали взрослыми дети. В 1953 г. в связи с
замужеством дочери Н.В. удалось получить две комнаты во вновь построенном
“профессорском” доме на Кировском (Каменноостровском) проспекте. Здесь он и
поселился вместе с сыном и домоправительницей Ефросиньей Климентьевной (Фрузой)
— сварливой старушкой родом из города Велижа Смоленской губернии, боготворившей
Н.В., безмерно преданной ему и непрестанно о нём заботившейся. Александра
Антоновна Валентинович, вторая жена Н.В., известный врач-педиатр, появлялась на
квартире только короткими наездами, и Н.В. так и продолжал вести ставшую уже
привычной для него жизнь “старого холостяка”. Появлялись внуки, семья
съезжалась и разъезжалась, но когда бы мне ни случилось навестить Н.В., я
всегда находила его сидящим в любимом кресле за громадным письменным столом
посреди невероятно захламлённой комнаты, поспешно листающим журналы или что-то
быстро пишущим, в клубах табачного дыма и неизменном обществе одного или двух
котов, вольготно разместившихся тут же, среди рукописей и полуразобранных
радиоприёмников.
Н.В. неспешно отделялся от стола,
оглаживая себя руками, традиционно извинялся за (действительно!) непарадный вид
и приветливо спрашивал: “Ну что у Вас новенького, Галина Георгиевна?” Здесь,
дома, стряхнув с себя часть невидимых, но на удивление прочных защитных
доспехов, он непривычно воспринимался человеком очень одиноким, живущим своей
необыкновенно сложной, напряжённой внутренней жизнью, привыкшим выслушивать
всех и откликаться на любую обращённую к нему просьбу, но при этом достаточно
замкнутым и не впускающим никого в свой внутренний мир.
Тогда, в 50-ые годы, Ин-т Физиотерапии
и Курортологии был уже ликвидирован, и я работала в Ленинградском
Педиатрическом Медицинском ин-те на кафедре Нормальной Физиологии у проф.
Дмитрия Григорьевича Квасова — тоже ближайшего ученика А.А. — поэтому, наши с
Н.В. разговоры легко соскальзывали с современности в необыкновенно интересные и
для меня дни их совместной юности. И тут Н.В. внезапно молодел, начинал
веселиться и рассказывать всякую небывальщину вперемешку с происходившими на
самом деле историями. Часто вспоминал относительно ещё молодого А.А. Это
казалось мне странным, потому что Ухтомский оставался тогда в моей памяти почти
что бестелесной блокадной тенью, застывшей в своей холостяцкой кухне, возле
плиты, на которой сидели и грелись два кота. Я в смущении замолкала, а Н.В.
радостно возвращал А.А. к жизни молодым и весёлым, любящим шутки, озорство и
разнообразные розыгрыши.
В доме Голиковых всегда царил культ
кошек, и даже Фруза должна была с этим мириться. Кошки были самые разные, была,
например, целая династия котов по имени Севка: Севка I, Севка II и т.д. Всё это
были коты совершенно особенные (то ли строгий отбор, то ли какая-то специальная
система воспитания — ?), какие-то коты-сфинксы. Когда Н.В. работал, они, полные
достоинства, сидели на его письменном столе, обернувшись головами к хозяину, в
свете и тепле старинной настольной лампы с отодранным абажуром, в окружении
чёрно-мраморных настольных часов и небольшой колонны из зелёного камня с
бронзовым орлом наверху. Им не мешал ни сигаретный дым, ни множество
разбросанных тут же по столу окурков; они не проявляли никакого легкомыслия,
игнорируя великое множество столь привлекательных для всякой нормальной кошки
“игрушек”, валявшихся тут же, у них прямо под носом. Последний, самый любимый
кот Н.В., бирманской породы, носивший гордое имя Аристотель (для близких
знакомых — просто Арик) ненадолго пережил своего друга-хозяина и теперь, как и
прежде, покоится у него в ногах.
Вообще, Н.В. очень любил животных и
даже предпринимал попытки внести в дом некоторое разнообразие. Однажды он решил
подарить одному из внуков на день рождения крольчонка. Идея, по-видимому,
возникла после моих рассказов о выдающихся умственных способностях этих
животных, которых я после опытов зашивала и выхаживала. Звонок, и в
торжественный день я явилась с одним из моих питомцев, который, как только я
спустила его с рук, немедленно сделал лужицу. Возник скандал. Фруза пошла за
тряпкой. Н.В. засуетился. Испуганный “Зай” весь праздник был обречён сидеть у
меня на коленях, вёл себя безупречно, но поселиться вынужден был у меня...
В другой раз раздался телефонный
звонок, и Н.В. тихим, таинственным, смущённо-извиняющимся голосом попросил меня
зайти и, если можно, поскорее. Прихожу: на полу трепыхается-катается нечто
угловатое и очень грязное. Оказалось, что Н.В. возвращался из университета и увидал
на набережной, возле Зоологического института, двух мальчишек, тащивших
подранка-канюка. Хотели продать его в институт на чучело. Н.В. откупил его,
принёс домой, но, встретившись с непримиримой оппозицией Фрузы, вынужден был
искать для него другого хозяина. Нарекли птицу Яшкой, упаковали, и поехал он ко
мне на лечение и поселение.
С появлением внуков потребовалось и
урегулирование дачной проблемы. В начале 50-ых годов Н.В. прожил несколько
дачных сезонов в Шапках, это место очень ему понравилось, и он купил там
полдома с небольшим участком. Переезд на дачу превращался в целую эпопею. Н.В.
самолично отвозил в корзинках котов, сам покупал для них рыбу, иногда и варил
её сам и обязательно сам осуществлял священный ритуал кормления. Впрочем, в
Шапках Н.В. жил не всё лето. Традиционно он проводил один месяц в Крыму с
Александрой Антоновной.
Отдыхать в Шапках Н.В. любил, но
уживаться в двух комнатах с чадами и домочадцами было ему не под силу. И потому
пришлось построить для него на дальнем конце участка индивидуальную избушку с
печкой, прихожей, чердаком и всеми принадлежностями настоящего дома в
миниатюре. Имелся даже мраморный умывальник (воды, впрочем, при нём никогда не
бывало), а на стене висела медвежья шкура. Там и поселился Н.В. вместе с
котами, наведываясь в “главную квартиру” только на время завтрака или обеда.
Для удобства сообщения два дома были соединены импровизированной телефонной
линией, причём аппараты были собраны руками самого Н.В. из подручных средств.
И в дачном виде Н.В. был, как всегда,
непередаваемо колоритен. То он сидел часами, высунувшись из окна своего домика,
подобный какому-нибудь индийскому магарадже, то разъезжал по посёлку на
стареньком мопеде, полный невероятного достоинства.
В Шапках я была несколько раз.
Раз-другой сходила с детьми за грибами. Позднее мы просто отдыхали и мирно
беседовали, о чём придётся. Но тут я стала чувствовать, что разговоры о
Физиологическом институте и кафедре вновь стали натыкаться на какой-то
внутренний запрет. Это настораживало: значит, снова появились неприятности,
затрагивающие Н.В. И действительно, когда, пробыв на посту директора два срока,
Н.В. передал в 1959 г. институт проф. М.И. Прохоровой и вернулся на кафедру,
выяснилось, что в его лаборатории всё ещё продолжается ремонт, что научное оборудование
отсутствует, что на всю лабораторию остался один лаборант, что часов для работы
в созданном самим Н.В. электрофизиологическом кабинете катастрофически не
хватает. В результате, значительную часть научной работы Н.В. пришлось
выполнять в Психо-Неврологическом институте им. Бехтерева, где ему всегда были
рады. Наверное, это было обидно. Однако Н.В. очень редко распространялся о
своих чувствах, и его переживания остались мне неизвестны.
Зато хорошо известно другое: Н.В., ещё
в 1949 г. искавший пути к компромиссу с “павловской” физиологией и ещё тогда
писавший: “Явления усвоения ритма раздражений действительно имеют ведущее
значение при образовании временной связи”, — в январе 1959 г. на III Гагрской
конференции, посвящённой образованию механизмов временной связи, выступил с
докладом “Роль следовых процессов и процессов усвоения ритма в формировании
временных связей” и предложил схему образования и воспроизведения условного
рефлекса. В том же году Н.В. был избран членом Центрального Совета Всесоюзного общества
физиологов им. И.П. Павлова.
Так, ещё не распростившись с
административной работой, Н.В. спешил вернуться к долгожданному Празднику
Науки, прерванному войной и прочими неприятными событиями. И в самом деле, с
1959 г. праздник начался. Были завершены исследования механизмов доминанты. На
основании обширных, накопленных ранее теоретических и экспериментальных
материалов, а также новых, целенаправленных, изощрённо изобретательных в
условиях современных методик экспериментов, Н.В. не только развил учение акад.
А.А. Ухтомского о доминанте,[2]
но и представил его в новом, более широком плане, в связи с новыми,
общебиологическими проблемами.
К этому времени давно уже было
разработано учение о процессах усвоения ритма раздражения нервными центрами.
Всё началось в 1928 г. с открытия Н.В. с помощью миографической методики этих
явлений и обнаружения их связи с доминантой, а завершилось многолетним
электрофизиологическим анализом (на основе разработанной Н.В. теории ЭЭГ),
установившим закономерную последовательность изменений усвоения ритма
раздражений в процессе их постепенного развития. При этом выделялись следующие
фазы: 1) Внутренняя синхронизация — синхронизация местной ритмической
активности соседних нервных клеток друг с другом при посредстве эфаптических, электрических
влияний; 2) Внешняя синхронизация — синхронизация импульсной активности
нейронов одной зоны с ритмом раздражений (импульсов), приходящих извне через
синаптические связи; 3) Усвоение ритма раздражения нервными клетками —
“следование ритму” после прекращения раздражения; 4) Репродукция ритма —
способность нервных клеток возобновлять ритмическую активность в усвоенном
ритме (1949, 1950).
Далее, сочетая в опытах
электрофизиологическую и эксцитометрическую методики, Н.В. доказал, что
изменения реактивности и синхронизации местных ответов и медленных потенциалов
нервных клеток происходят параллельно, одинаково отражая изменения состояния
местного клеточного возбуждения, тогда как изменения возбудимости и
синхронизации импульсной активности, также изменяющиеся параллельно, в равной
степени характеризуют процессы возбуждения на системном уровне (1954, 1960).
Проведённые Н.В. исследования процесса
доминанты, создаваемой ритмическими раздражениями различных рецепторов
(зрительных, слуховых, мышечных) в условиях регистрации ЭЭГ и
электрокортикограммы, показали, что, прежде всего, наблюдается повышение
реактивности нервных клеток и усиление синхронизации местных ответов и
медленных потенциалов со склонностью к усвоению темпа раздражений; затем на
этом фоне повышалась возбудимость нейронов и усиливалась синхронизация
импульсной активности, что сопровождалось подавлением синхронизации местных
ответов и медленных потенциалов — на первый план теперь выступали и начинали
преобладать системные процессы — а также всё отчётливее проявлялось усвоение
ритма раздражений, и начинался процесс вовлечения в констелляцию новых
нейронных групп.
Таким образом, Н.В. было установлено,
что повышение реактивности, возбудимости, усиление иррадиации возбуждения и
процессы внутренней и внешней синхронизации и усвоений ритма раздражений
обеспечивают накопление возбуждения и создают состояние стационарного
возбуждения в доминирующих центрах. Это состояние Н.В., в соответствии со своим
законом раздражения, охарактеризовал как связанное со средним уровнем
поляризации и лабильности нейронов, оптимальным для ритмической активности и
проведения возбуждения.
Но процессы синхронизации и усвоения
ритма раздражений, кроме того, сонастраивают на единый темп и ритм возбуждения
доминирующих очагов, осуществляют переход от беспорядочной, асинхронной
активности нейронов к упорядоченной деятельности, при которой энергия
используется наиболее эффективно (1950, 1959). Они же определяют единство
действия всей функциональной системы, производя вовлечение и выключение
отдельных нейронных групп в доминирующую констелляцию.
В процессах сонастраивания и
вовлечения в доминирующую констелляцию нейронных групп под влиянием навязанных
им ритмов происходят изменения лабильности нервных центров к уровню оптимальному
для усвоения этого ритма раздражений, и лабильность высоколабильных нервных
центров понижается, а низколабильных — повышается. Центры, не способные
усваивать эти ритмы, из констелляции выключаются. Это было подробно изучено
Н.В. на моно- и полисинаптических рефлекторных дугах (1929, 1940, 1950).
Теперь нервные центры, связанные в
единую функциональную систему, начинают всё больше обнаруживать явления
“следовой репродукции”, что свидетельствует об их готовности работать в
усвоенном ритме. “Следовую репродукцию” Н.В. рассматривал как основу
долгосрочной памяти: повторные навязывания нервным центрам одного и того же
ритма раздражений всё больше усиливает их “следовую репродукцию”, они всё
больше “обучаются” и всё ярче проявляют избирательно повышенную активность
именно к этому усваевому ритму (1927, 1933). А избирательное повышение
возбудимости, в свою очередь, создаёт условия для ещё более тонкого
сонастраивания ритмов активности всей функциональной системы. Этот сложный
процесс завершается теперь уже вновь на клеточном уровне формированием
специфических следов (скрытых следов И.М. Сеченова) в виде избирательно
повышенной возбудимости нейронов высших отделов нервной системы к данному
раздражителю (1959, 1960, 1961).
Свидетельством этому являются
проведённые Н.В. исследования очаговых и генерализованных реакций коры больших
полушарий (в опытах со вживлёнными электродами при многоканальной регистрации,
в условиях эксцитометрической методики, при световых, звуковых и дозированных
электрических раздражениях), показавшие, что явления усвоения ритма раздражений
выражены не только в проекционных, но и в ассоциативных зонах, что степень
выраженности очаговых ответов коррелирует с уровнем реактивности нейронов коры
в отводимом очаге, и что они, следовательно, связаны с местным клеточным
возбуждением. Об этом говорит и усиление активности в ассоциативных зонах под
влиянием аминазина, проявляющееся особенно чётко при подавлении им общекорковых
генерализованных реакций коры больших полушарий (1959, 1960, 1963).
Н.В. был очень доволен тем, что
полученные им факты вновь подтвердили представления А.А. Ухтомского о роли
ассоциативных нейронов коры больших полушарий как хранителя информации и
аппарата выработки новых рефлексов, навыков и умений в процессе формирования
памяти.
Закончив изучение механизмов
доминанты, Н.В. по-новому сформулировал основные положения (законы) акад. А.А.
Ухтомского, добавив к ним ещё два новых:
1. Положение о диффузной волне
возбуждения (закон диффузной иррадиации импульсов возбуждения в нервной системе,
обеспечивающих вероятностный характер реагирования);
2. Положение, по которому на
иррадиирующие в нервной системе импульсы возбуждения первыми отвечают центры,
находящиеся в состоянии повышенной возбудимости (закон иррадиации возбуждения в
сторону очагов повышенной возбудимости);
3. Положение, по которому возбуждённые
центры оказывают сопряжённо-тормозящие влияния на остальные нервные центры
(закон сопряжённого торможения);
4. Положение о едином темпе и ритме
активности нервных центров, входящих в состав доминирующей констелляции (закон
синхронизации активности центров — участников констелляции);
5. Положение о длительной сохранности
следов раздражения в центрах, способных к репродукции прежних доминантных
состояний (закон длительного сохранения специфических следов раздражений
нервными центрами высших отделов нервной системы) (1959, 1963).
Итак, исследование механизмов
доминанты закончено, но праздник продолжается: рассматривая доминанту как общий
и основной принцип работы нервных центров, Н.В. уже давно оценил её как
наиболее яркое и полное проявление общих закономерностей формирования системных
реакций, как некий эталон, позволяющий глубже понять свойства и историю
развития различных функциональных систем. И, принимая за основу формирования
системных реакций постепенное развитие процессов синхронизации и следовые
явления длительного сохранения избирательной отзывчивости нервных центров к
импульсации определённого ритма, Н.В. по этим признакам разделяет все
функциональные системы на простые элементарные доминанты (безусловные
рефлексы), сложные доминанты (доминанта в узком смысле и условные рефлексы) и
доминанты высшего порядка (динамический стереотип). Теперь все они требуют
новой сравнительной характеристики и более тщательной оценки их роли в нервной
деятельности, а также в процессах их новообразований, взаимодействий и
специализаций.
Сравнительный анализ сразу же убеждает
нас в том, что все системные реакции организованы на принципе взаимодействия
местных клеточных процессов с процессами системного уровня. Исследования этих
взаимодействий требуют применения специальных методик, и с 1960 г. в
лаборатории Н.В. начинаются работы на клеточном уровне, связанные с методикой
внутриклеточного отведения потенциалов (М.И. Сологуб).
А характеристики различных системных
реакций ставят всё новые и новые вопросы. Даже всесторонне изученные
элементарные доминанты (безусловные рефлексы), определяемые Н.В. вслед за А.А.
Ухтомским как “генетически закреплённые реакции, как результат фило- и
онтогенетического развития, как частный специальный продукт редукции и
упрощения условного рефлекса” (Ухтомский, 1927), а ныне рассматриваемые как
“специализированные рефлексы”, предназначенные для чёткой, срочной работы в
стационарных условиях и, как всякий результат узкой специализации, не
обладающие достаточным творческим потенциалом, даже они создают новые проблемы
— необходимость изучения взаимодействия специализированных и
неспециализированных механизмов координации, которые ещё большее значение имеют
в случае со сложными системными реакциями.
Но Н.В. более всего интересовался в
это время механизмом осуществления межнейрональной связи сложных доминант.
Прежде всего, здесь был необходим электрофизиологический анализ межнейронных
отношений, выяснение вопроса о роли усвоения ритма при образовании межнейронных
связей, изучение их механизма и... так без конца.
Поле деятельности, по сути дела,
безгранично, а методические приёмы крайне сложны, но Н.В. был готов к этому.
С декабря 1964 г. Н.В. вступил,
наконец, в должность заведующего кафедрой Физиологии человека и животных ЛГУ. В
1965 г. ему исполнилось 60 лет. Юбилейную дату праздновали очень торжественно —
это был триумф, объединивший многие поколения. Бывшие ученики (а их к тому
времени насчитывалось уже более 33 выпусков) окружали Н.В. плотной толпой. Во
всём царила атмосфера необыкновенной сердечности, доброжелательности и
глубокого уважения.